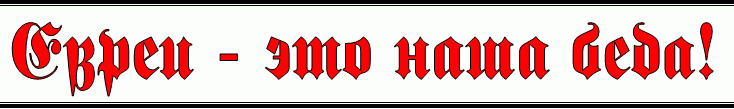ЧЛЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ
Г. Г. ЗамысловскийСАРАТОВСКОЕ ДЕЛО 1853 г.
(“УМУЧЕННЫЕ ОТ ЖИДОВ”)
Харьков, 1911 г.
“Истина”, №№8-10, г.
Саратов
Рубрика “Краеведение”
ОГЛАВЛЕНИЕ ГЛАВА I
ГЛАВА II
ГЛАВА III
ГЛАВА IV
ГЛАВА V
ГЛАВА VI
ГЛАВА VII
В начале декабря 1852 года, в г. Саратове, сын цехового Шерстобитова, Феофан 10 лет, ушел утром и школу, а домой не возвращался.
В январе 1853 г. также загадочно и бесследно исчез в том же Саратове другой мальчик — 11-летний сын государственного крестьянина, Михаил Маслов.
Но поводу
их исчезновения саратовскою “градскою” полициею было произведено “расследование”, которое “ничего не обнаружило” и делу, казалось, суждено было подвергнуться забвению так, как “остались безгласными” случаи исчезновения мальчиков в той же местности за предшествующие годы.Лишь впоследствии, когда события развернулись широко и грозно, о незаконных действиях самой “градской” полициею г. Саратова было произведено особое расследование, которое открыло так много, что этими открытиями совершенно
исключается возможность удивляться, почему сама градская полиция раскрывала раньше так мало дел.4 марта 1853 г, совершенно случайно, на Волге, недалеко от берега. был найден труп Маслова, а через некоторое время, когда Волга уже вскрылась, на Беклемишевом острове, против Саратова, в тальнике, то же случайно — обнаружили труп Шерстобитова.
Стоило этим трупам лежать на аршин правее или на аршин левее — и половодье, по всей вероятности окончательно бы уничтожило следы преступления.
Признаки насильственной смерти обоих мальчиков были несомненны. У Маслова а голове обнаружили две раны — одна нанесенная тупым, другая — острым оружием. На шее вдавление и рубцы от шерстяного кушака. На нравом плече часть кожи вырезана кругообразно. Ясные следы обрезания. На руках и ногах синие пятна.
Врач, производивший вскрытие, определил, что смерть последовала от удара тупым орудием по голове — настолько сильного, что теменная и височная кости дали трещину от одного уха до другого. После этого удара, но еще до наступления смерти, шею мальчика давили кушаком. Обрезание, соответствующее иудейскому обряду, и вырезание кожи на плече учинены при жизни, но незадолго до смерти. Синие пятна на руках и ногах — или от тугих перевязок, или от того, что мальчика очень крепко держали руками — тоже незадолго до смерти.
Труп Шерстобитова успел сгнить настолько, что исследовать повреждения на его теле уже не представилось возможным — однако следы произведенного и над ним обрезания. соответствующего иудейскому обряду — были установлены вполне определенно. На виске обнаружено большое красно-багровое пятно, а значительный кровоподтек, ему соответствовавший, свидетельствовал о прижизненном его происхождении и о том, что сильный удар, нанесенный по виску, если не повлек смерти ребенка, то, во всяком случае, ошеломил и лишил сознания.
Если, однако, результаты судебно-медицинского осмотра и вскрытии Шерстобитова страдали поневоле пробелами, то следственный материал обогатился двумя чрезвычайно важными находками, оказавшимися около трупа — это были: солдатская фуражка, однако, без номера, и солдатские же подтяжки, сцепленные петля в петлю, служившие, по-видимому, для переноса на них трупа, хотя не исключена возможность, что Шерстобитов был этими подтяжками задушен так, как Маслов, тоже получивший сильный удар по голове, был удавлен кушаком. Возможно, конечно, в виде предложения, и то и другое, то есть, что подтяжки были и орудием удушения и орудием последующего переноса трупа.
Далее, установлено еще одно, весьма характерное обстоятельство. Ногти на руках и ногах Шерстобитова были обрезаны “вплоть до мякоти”, — из дела видно, что эта же особенность была замечена на трупе четырехлетнего мальчика Федора Емельянова, вскрытие которого в свое время (знаменитое Велижское дело 1823 г.), дало полную картину ритуального убийства.
Очевидно, найденные одно за другим мертвые тела ни в чем не повинных детей, замученных, оскверненных, изуродованных, брошенных, как падаль, должны были вызвать сильное возбуждение среди местного населения. Отделываться расследованиями ничего не обнаруживающей городской полиции больше нельзя было, и губернатор возложил следствие на особого чиновника Волохова, которого вскоре сменил следователь, специально присланный из Петербурга — надворный советник Дурново.
Необычайной энергии, искусству, полной неподкупности этого деятеля, а также помогавшего ему жандармского офицера Языкова и обязано своим раскрытием одно из интереснейших и ужаснейших судебных дел русской летописи.
Однако уже и Волохов нашел кончик от того клубка, который был потом распутан с таким мастерством. Он обратил тщательное внимание на мальчика Степана Канина, который был вместе с Масловым перед исчезновением последнего.
Канин показал, что его и Маслова какой-то человек в дубленом, желтого цвета тулупе, позвал на Волгу помогать в переноске аспидных досок, посулив по пятаку за доску. Они отправились, но по дороге Канин одумался, не захотел идти дальше и вернулся домой, а Маслов пошел к берегу и больше не возвращался.
Тогда Волохов начал предъявлять Канину проживающих в Саратове иудеев, коих, по-видимому, было в то время не особенно много: до циркуляра, отменяющего закон о черте оседлости, еще не додумались, хотя еврейское влияние среди административных сфер, особенно петербургских, было уже и тогда очень сильным.
Главным рассадником саратовских жидов оказался, весьма неожиданно, местный гарнизонный батальон, об изумительных порядках которого, так же, как и о злоупотреблениях “градской” саратовской полиции, была произведено особое расследование, параллельно со следствием об убийствах Шерстобитова и Маслова.
Беспорядки эти заключались в крайне слабом надзоре за нижними чинами — точнее — в полном отсутствии надзора. Нижние чины батальона, проживая в значительном числе на частных квартирах, не только беспрепятственно разгуливали в любое время по городу, но даже отлучались самовольно с дежурств и караулов — обстоятельства, выяснившиеся при следующем ходе событий и для оценки их весьма существенные.
Жидов в батальоне было 44. Всех их, в числе других иудеев, производивший следствие Волохов предъявил мальчику Панину.
Надо заметить, что в это время был найден только труп Маслова, хотя пропавшего позже, а труп пропавшего раньше Шерстобитова, с валявшейся около солдатской фуражкой, обнаружен еще не был. Таким образом, следственная власть, имея основание заподозрить в убийстве кого-либо из еврейской среды (вследствие факта обрезания Маслова), никакими указаниями, что в убийстве замешаны солдаты-евреи, еще не располагало.
Мальчик Канин из предъявленных ему евреев вообще и солдат-евреев в частности, признал солдата Михеля Шлифермана, заявив: “он ровно тот, кто сманил”.
Впоследствии, на одном из передопросов, Канин выразился еще категоричнее, сказав Шлиферману: “это ты увел Мишу”.
Итак, с одной стороны, по убийству Маслова, которое совершено позже, но подверглось расследованию раньше, свидетель, в добросовестности которого нельзя сомневаться, прямо указал на солдата-еврея, как на одного из виновных, а с другой стороны, уже после этого показания обнаружились несомненный, чисто объективные данные, что виновный или виновные в первом убийстве, Шерстобитова, вышли из среды: 1) еврейской (факт обрезания Шерстобитова) и 2) солдатской (подтяжки и фуражка, оказавшиеся около трупа).
Михель Шлиферман, учинив полное запирательство, однако не мог отрицать, что, будучи по ремеслу цирюльником, именно он совершал обыкновенно у саратовских евреев обряд обрезания младенцев.
Когда Канин опознал Шлифермана, естественно возник вопрос о дубленом желтого цвета тулупе, в котором, по словам мальчика, был человек, “сманивший Мишу”. Сначала поиски были безуспешны, но затем нашелся свидетель, удостоверивший, что видел, как в таком тулупе приходил на квартиру Шлифермана другой солдат-еврей, служащий сторожем в еврейской молельне.
У этого сторожа, солдата инвалидной команды Янкеля Бермана, произвели обыск и, действительно, нашли тулуп, по приметам подходящий к описанию, сделанному Каниным.
Чтобы закончить эту часть изложения, следует еще добавить, что как только был найден труп Маслова, на следующий же день в полицию добровольно явился некий Авксентий Локотков, бродяга-подросток, ночевавший где попало, без копейки денег — и заявил, что это он совершил убийство. Локоткова препроводили к следователю Волохову, который удостоверился, что рассказ явившегося с повинной бродяги о том, как он убивал, совершенно невероятен. Впрочем, и Локотков уже от своего сознания отказался, заявив Волохову, что говорил все это в полиции спьяна, а пришел туда потому, что не имел ни пристанища, ни денег.
Тем не менее, он был предъявлен Канину, который сказал, что это не тот человек, который увел Маслова. Тогда Волохов отослал Локоткова обратно в полицию, где его оставили под арестом “за бесписьменность”. На первоначальное показание его, очевидно, взглянули, как на не заслуживающую внимания болтовню пьяного бродяги — и лишь впоследствии выяснилось, что болтовня эта была не столь вздорной и беспричинной, как казалось.
Этим и закончилась, повторяю, первая стадия дела — действия полиции и Волохова до приезда Дурново.
До настоящего раскрытия преступления было еще очень далеко, но путь намечался довольно отчетливо.
Несомненные следы обрезания на трупах и опознание такого еврея, который как раз совершал обрезания своим единоверцам.
Признаки ритуального убийства и связь этого еврея с другим, как раз сторожем еврейской молельни.
Солдатское звание заподозренного в причинении смерти Маслову — и солдатская фуражка около полусгнившего тела Шерстобитова.
Еще ничего вполне определенного, но совпадения, которые уже очень трудно объяснить случаем.
Впоследствии, когда уже производилось расследование о саратовской городской полиции, отцы убитых мальчиков. Шерстобитов и Маслов, удостоверили, что сразу немедленно после исчезновения их сыновей, задолго до обнаруженья трупов, они заявили подозрение на жидов и настаивали, “ежедневно просили”, по выражению потерпевших, чтобы в жидовских помещениях — повторяю, немногочисленных — были произведены обыски. Однако полиция упорно “подозрение это отводила”, ни одного обыска тогда не произвела, а Шерстобитова, например, уверяли, что его сын “наверное, где-нибудь замерз, потому что был шалуном”.
ГЛАВА IIВ числе рядовых саратовского гарнизонного батальона находился крестьянин Антон Богданов, характеристика которого представляется еще более отрицательно, чем Локоткова. Вместе с матерью, бежавшей от помещика, он долго вел бродячий образ жизни, подобно Локоткову. В рекруты был сдан за дурное поведение. На военной службе не исправился, отличаясь, по удостоверению начальства, буйством и пьянством. Происходя из Витебской губернии, с детства привык к польской и еврейской среде, а потому, по словам других солдат, “с русскими был русский, с поляками поляк, с жидами жид”. В вещах его нашли подвязную бороду и парик.
На первой неделе Великого поста 1853 года Богданов явился в “Петербургскую” гостиницу г. Саратова и там, в пьяном виде начал буянить, шуметь, кричать, бить посуду.
Так как о “Петербургской” гостинице будет дальше много разговоров, то надлежит теперь же отметить, что содержателем ее состоял немецкий колонист Гильгенберг, что под зданием гостиницы было особое подвальное помещение, а во дворе — флигель, где жил с семьею пожилой зажиточный еврей Янкель Юшкевичер, по ремеслу меховщик. Поселился он в Саратове давно, еще с 1827 г., конечно, не имея на это ни малейшего права. Несколько раз, как водится, “возникала переписка” о его выселении, но “оканчивалась ничем”.
Поднявший скандал Богданов вдруг начал требовать, чтобы этого Юшкевичера позвали в гостиницу: пусть, мол, заплатит за ту посуду, которую он, Богданов, побил.
Несмотря на дикость такой фантазии, гостиничные служащие дали знать об этом на квартиру Юшкевичера, откуда, за отсутствием самого Янкеля, в гостиницу немедленно пришел его сын, Файвиш. Богданов, однако, не унимался: он полез на Файвиша с кулаками и заявил, что не платит сам вовсе не по неимению денег, а лишь потому, что считает жидов обязанными платить за него, Богданова. В доказательство Богданов вытащил из кармана несколько золотых монет и, обращаясь к Файвишу, сказал: “у меня самого есть деньги: вы же мне дали за мальчиков” .
Но в это время появился Янкель и сумел успокоить Богданова, а за разбитую им посуду беспрекословно заплатил пять рублей — сумма по тогдашним временам, несомненно, очень крупная для солдатского кутежа.
Однако, я это весьма важное событие осталось пока “безгласным”. Кому было обратить на него внимание? Отношение к делу саратовской полиции было вполне определенным, что же касается служащих в гостинице, то они даже тогда, когда за следствие взялся Дурново, были вначале крайне молчаливы и несообщительны.
Может быть, на них влиял Янкель непосредственно, а вернее, что им приказал молчать хозяин Гильгенберг, по крайней мере, в конце концов, эти служащие показали именно так. И Правительствующий Сенат, решая дело, даже предполагал “Якова Гильгенберга оставить в подозрении в преступных сношениях с Янкелем Юшкевичером и в знании обстоятельств о скрытии следов сделанного Юшкевичером преступления”.
Тогда, при дореформенном процессе, существовал особый юридический институт “оставления в подозрении”, как нечто среднее между обвинением и оправданием.
Между тем Богданов с каждою неделей пьянствовал все сильнее и сильнее, стал нелюдимым, все более и более сторонился товарищей пока наконец, уже в мае 1854 г. ни заявил начальству, что “желает раскрыть жидовское дело”. Его отправили к Дурново.
После целого ряда тщательных и весьма подробных допросов, показания Богданова свелись к следующему:
Поступив в Саратовский гарнизонный батальон летом 1853 г.. он быстро сдружился со служившими там солдатами-евреями, а в особенности с Федором Юрловым, бывшим тогда еще шарманщиком и принятым в батальон рядовым к зиме. Федор Юрлов доводился сыном Янкелю Юшкевичеру, но принял православие. Однако, это не воспрепятствовало ему сохранить близкие, дружественные отношения и с евреями вообще, и с Янкелем Юшкевичером в частности, Юрлов не только бывал у отца саду, но и водил туда Богданова, которому оказывали хороший прием и поили водкой.
С зимы Богданов стал красть для евреев казенные дрова и носить в еврейскую молельню. Это еще более сблизило его с евреями и усилило их доверие.
В середине декабря 1852 г. ночью Юрлов уговорил его, Богданова, уйти с караула на квартиру Янкеля Юшкевичера, расположенную, как уже было сказано, на одном дворе с “Петербургскою” гостиницей.
У Юшкевичера Богданов застал солдат-евреев Фогельфельда, Берлинского, Зайдмана и двух незнакомых ему жидов, не из Саратова: один был в халате и высокой, грузинской шапке, другой — в чапане.
Богданова, по обыкновению, стали поить водкой, после чего повели в подвал, находившийся в гостинице. Там, на полу, он увидел мальчика, которого сейчас же положили па скамейку. Мальчик вертелся и мычал. Янкель сел на него верхом, вынул инструмент из какого-то красного футляра и совершил обрезание, но при этом нечаянно порезал себе палец на левой руке — из пальца пошла кровь. Мальчика, после обрезания, Повернули и, сделав раны на спине, или на шее дали крови стекать в медный таз. Затем кто-то нанес мальчику сильный удар в висок, и тот перестал шевелиться. С полной точностью и отчетливостью Богданов всего происшедшего вспомнить не может, потому что находился тогда под влиянием сильного испуга и выпитой водки. Он Даже хотел убежать, но Юрлов принудил его остаться, после чего жиды стали настаивать чтобы он вынес труп мальчика из подвала и выбросил куда-нибудь подальше. Богданов, в испуге, отказался, но, под влиянием просьб и угроз, обещал это сделать через несколько дней. Тогда его снова начали напаивать водкой.
Спустя некоторое время Богданов, опять отлучась из караула самовольно, пришел к Янкелю и с Юрловым, Берлинским и Зайдманом спустились в подвал. Там связали труп мальчика подтяжками, сложили в сани и повезли на Волгу. У берега Богданов взвалил мертвое тело себе на спину и стал спускаться, но было круто, и он сорвался с своей ношей вниз. Помочь ему подоспел Юрлов. Вдвоем они стали искать проруби, но не нашли, а потому переправились по льду на остров и спрятали труп в кустарник, где Богданов второпях потерял фуражку. Тогда Берлинский дал ему свою, так как живя на вольной квартире, мог незаметно вернуться и без форменной фуражки — в шапке. За свое участие в вывозе трупа он, Богданов, получил от Янкеля плату.
В феврале Берлинский и Зайдман снова позвали Богданова к Юшкевичеру. По дороге оба еврея заглядывали в несколько кабаков, видимо, что-то отыскивая. Наконец, в одном кабаке они увидели Федора Юрлова в штатском платье. Зашли туда и угостили Богданова водкой, а потом продолжали путь уже вчетвером. На Сергиевской улице Зайдман зашел в какой-то дом и вернулся из ворот на улицу в сопровождении незнакомой Богданову женщины, не жидовки. Богданов обратил внимание, что она говорила по-русски чисто, но скороговоркой и, прощаясь, сказала: “Бог с вами”.
Придя к Юшкевичеру, Богданов выпил еще водки, а потом, около полуночи, увидел во дворе сани, на которых лежал труп мальчика, чем-то покрытый. В санях расположились Юрлов, Берлинский, Зайдман. Он, Богданов, стал на запятки и поехал к Волге. Па повороте у взвоза Богданов, охмелев, сорвался с запяток. Жиды уехали без него и что они дальше делали — ему неизвестно. Не остановились они, вероятно, потому, что на взвозе было очень круто и скользко — трудно удержать лошадь, а кроме того, вблизи стоял будочник.
Он, Богданов, вернулся в город. Найденные в его вещах при арестовании фальшивая борода и парик были доставлены ему Юрловым после того, как вывезли на Волгу первого мальчика, Шерстобитова. Уже тогда Юрлов подговаривал его бежать из батальона и, принеся бороду, парик, обещал также достать фальшивый паспорт.
Оказавшаяся у него, Богданова, за обшлагом рукава пятирублевая ассигнация представляет ту часть платы за вывоз трупа, которую он, Богданов, еще не успел истратить.
Таково вкратце показание Богданова, послужившее ключом для раскрытия дела. Но естественно возникает вопрос, насколько оно достоверно? Разве можно верить пьянице, вору, бродяге, человеку самого низкого нравственного уровня? Разумеется, нет. Слова такого человека, сами по себе, ни малейшего доверия не заслуживают. Вообще, оговор — это такой вид судебного доказательства, к которому надо относиться с наибольшей осторожностью. Но, тем не менее, это есть доказательство и, в иных случаях, доказательство неотразимое. Прежде всего, если оговаривающий не только оговаривает других, но, в то же время, и сам сознается в тяжком преступлении, сознается добровольно, еще никем не заподозренный, сознается, не имея никакой выгоды, никакого расчета сознаваться — то много вероятия, что в его рассказе есть значительная доля правды. Во всяком случае, здесь уже огромная разница по сравнению с тем положением, когда изобличенный преступник просто старается путем оговора свалить часть своей вины на другого, затянуть дело, отомстить или пошантажировать.
Внутренний порыв, элемент раскаяния, хотя бы неполного, хотя бы преходящего, надлежит серьезно учитывать даже и в самом порочном человеке.
Но кроме этой субъективной стороны, все же несколько шаткой, есть еще и объективная, уже совершенно незыблемая. Если рассказ преступника, сознающегося и в то же время оговаривающего других, охватывает целый ряд взаимно связанных, переплетенных событий, фактов и при проверке такого рассказа следствием начинает подтверждаться один факт за другим — оговор вырастает в грозную улику, хотя он и сделан человеком, не заслуживающим никакого доверия.
Придумать, измыслить длинный, подробный рассказ так, чтобы он совпал с обстоятельствами большого, сложного дела, тщательно исследуемого — совершенно невозможно. Совпасть может только правда.
Посмотрим, насколько совпал с обстоятельствами дела ужасный рассказ Антона Богданова, за кутеж которого так беспрекословно и кротко расплачивался Янкель Юшкевичер в гостинице.
ГЛАВА IIIКак Михель Шлиферман учинил полное запирательство по поводу того, что показал о нем мальчик Степан Капни, так Юрлов, Юшкевичер, Зайдман, Берлинский и Фогельфельд стали совершенно отрицать все, что рассказал о них Богданов. Юрлов заявил, что познакомился с Богдановым лишь после того, как попал в одну с ним роту. Остальные евреи показали, что вовсе Богданова не знают.
Однако солдаты-христиане удостоверили, что Юрлов и Богданов были дружны между собой, что Юрлов еще до поступления своего на военную службу приходил в 1 роту, где служил Богданов; что поздно осенью 1852 г. он явился к Богданову в караул при рабочем доме и оба вместе куда то ушли.
Описывая убийство первого мальчика, свезенного на Волгу, Шерстобитова, Богданов между прочим указал, что Янкель Юшкевичер, совершая обрезание вертевшейся под ним жертвы, порезал себе палец левой руки.
Следователь Дурново произвел немедленно судебно-медицинское освидетельствование Юшкевичера и, действительно, на безымянном пальце левой руки свидетельствуемого был обнаружен рубец, по поводу которого Юшкевичер объяснил, что порезался щучьим зубом. Однако, врач-эксперт удостоверил, что тогда края рубца были бы иные, менее гладкие, здесь же ровность краев указывает, что рана причинена не зубом, а более острым орудием.
На это Янкель Юшкевичер дополнительно объяснил, что он заметил порез, когда чистил рыбу накануне — еврейской пасхи (т. е. по справке 10 апреля 1853 г.) — но, может быть, таковой причинен и не зубом, а ножом.
Однако, врач удостоверил, что и это объяснение невероятно, ибо белизна рубца указывает, что рана причинена не раньше, как месяца за четыре до освидетельствования, происходившего 13 мая 1853 года.
Далее, следствием была отыскана свидетельница Чернышева, которая показала, что в декабре 1852 г. вечером, проходя около дома “Петербургской” гостиницы, она встретила жида Янкеля, державшего за руку мальчика лет десяти. Янкель говорил ему: “иди”, а мальчик, упираясь, хотел освободиться.
Другая свидетельница, Ирина Попова, показала, что, служа стряпухой у цехового Цыганова, квартирующего рядом с Янкелем Юшкевичером, она незадолго до масленицы 1853 года услыхала донесшийся из квартиры жалобный детский крик. Начав прислушиваться, она различила слова: “отпустите, лучше тятенька вам денег даст”. Потом послышался какой-то шорох и все затихло. Попова прошла на квартиру Юшкевичера узнать, кто кричал, но в дверях ее остановила старшая дочь Янкеля и не пустила в квартиру, а на вопрос о странном крике ответила: “это дети играют”. Попова тогда же рассказала о случившемся Цыганову, который ее ссылку впоследствии и подтвердил.
Спустя довольно много времени после ареста Юшкевичера, от ремесленников-христиан, поселившихся на его бывшей квартире, стало известным, что в темной комнате, где была раньше спальня Юшкевичера и его жены, замечены на полу какие-то странные пятна, которые не смываются даже горячей водой. Приступив к проверке этих сведений, следственная власть, действительно, обнаружила в указанном месте мало заметные на глаз, но довольно большие темно-бурые пятна, которые, однако, выступили гораздо явственнее, когда доски были смочены теплой водой, и снова сделались мало заметными по мере высыхания досок. Новые обитатели квартиры Юшкевичера объяснили, что в то время, когда они туда переехали — в июле 1853 г.— пятна были гораздо более красного цвета и очень походили на кровяные, а потом, после неоднократного мытья, потемнели.
Врачебная управа и медицинский совет высказались, что при таких условиях, определить свойства и происхождение пятен не представляется возможным.
Над пятнами, на потолке, штукатурка оказалась гораздо более свежею, чем остальная. Заинтересовавшись сим обстоятельством, следственная власть выяснила, что как раз в этом месте у Юшкевичеров были вбиты в потолок большие гвозди, которые испортили штукатурку, впоследствии отремонтированную заново.
Когда спросили мужа и жену Юшкевичеров, зачем понадобилось вбивать в потолок гвозди и почему под гвоздями образовались такие странные пятна, спрошенные дали противоречивые показания. Жена Юшкевичера, Ита, сначала объяснила, что ни гвоздей в потолке, ни пятен на полу не замечала, а потом добавила, что уже после ареста ее мужа в этом месте были вбиты гвозди, чтобы повесить люльку для ее внука.
Янкель Юшкевичер, по ремеслу меховщик, как было упомянуто выше, заявил, что гвозди были вбиты давно — на них вешали меха, которые потом окрашивали: вероятно, от стекшей краски и образовались под гвоздями пятна.
Однако, два эксперта-меховщика удостоверили, что употребляемые в их ремесле краски отмываются горячей водой и не могут оставить таких пятен, какие обнаружены в квартире Юшкевичера.
Свидетель Иван Кадомцев, служивший у содержателя С.-Петербургской гостиницы кучером, показал, что в 1853 г, перед масленой, он поздно вечером запрягал хозяйскую лошадь для жидов. Потом Янкель закричал: “отворите ворота”, а так как ворота были тяжелы, то дворник Михайлов (умерший до допроса) попросил его, Кадомцева, помочь. Он видел, что выехали сани, в которых сидело несколько человек, а один стоял на запятках. Лиц не разглядел, но говор был жидовский. На санях лежал прикрытый чем-то, по-видимому дубленой шубой, предмет, который судя по очертанию, мог быть трупом ребенка. Ночью его, Кадомцева, разбудил повар Иван и сказал, что надо убрать вернувшуюся лошадь. В предыдущие две ночи Кадомцев спал в конюшне и заметил, что в выход под гостиницей (т. е. подвал) ходили какие-то люди, с фонарем.
Повар Иван сначала, как и многие служащие гостиницы, говорил, что ничего не знает, но потом подтвердил, что как-то ночью, перед масленой, Янкель зашел на кухню и сказал ему, чтобы разбудил Кадомцева, потому что вернулась лошадь.
Любовница Федора Юрлова, мещанка Горохова, сначала долго говорила, что ничего по делу не знает, но затем показала, что, узнав об аресте Янкеля Юшкевичера, поспешила в казарму, предупредить об этом Юрлова. Он пришел в сильное волнение и, заплакав, сказал: “наш грех, верно мы все погибли”. На вопрос Гороховой, кто же убивал, Юрлов ответил: “кого арестовали, те и убили”.
Во время содержания под стражей Янкеля Юшкевичера удалось перехватить письмо, где он обожженною лучиной написал по-еврейски: “уведоми иудеев, чтобы они молились. Стойте крепко. Крепись, дорогая моя дочь, об этом я прошу тебя и брата”.
Еще до оговора, хотя и незадолго, у Берлинского был произведен обыск (в апреле 1853 г., а оговор в мае) по другому делу, хотя и довольно сходному: “о сманивании мальчика Никифорова”. Среди отобранных по обыску предметов оказался кусок синей клетчатой сарпинки в аршин длины и в пол-аршина ширины.
Отец Шерстобитова заявил, что лоскут этот от той рубашки, в которой пропал его сын. В доказательство он предъявил свою рубашку — такого же узора и доброты. Это же подтвердили его жена, брат и сосед.
Берлинские — муж и жена — сначала не могли объяснить, откуда взялся у них лоскуток, и лишь через некоторое время Ицка Берлинский заявил, что это остаток от сношенной уже им рубашки, которую четыре или пять лет тому назад сшила ему Фрейда Фогельфельд — жена того рядового-еврея, который также был оговорен Богдановым и, будучи взят под стражу, удавился в тюрьме.
Фрейда Фогельфельд в подтверждение слов Ицки Берлинского заявила, что у ней даже остался лоскуток той же сарпинки, вшитый в большое одеяло. По осмотре одеяла оказалось, что туда вшит, действительно, кусок такой же сарпинки, но совершенно новый и даже не мытый.
Кроме дела о неудавшейся попытке сманить мальчика Никифорова, где девятилетний Иван Никифоров прямо признал в сманивателе Ицку Берлинского, сулившего ему моток ниток, весьма интересны показания мальчиков Александра Андреева и Алексея Константинова.
Они удостоверили, что в том же Саратове, зимою 1852—1853 года, шли из училищ домой обедать. Им встретился незнакомый солдат, говоривший “с жидовским выговором”, и стал их зазывать к себе, обещая по колоде карт и аспидной доске. Они согласились и пошли, но так как солдат стал их заводить слишком далеко, то побоялись и вернулись.
Наконец, мальчик Константин Крохин рассказал, что тою же зимою хозяин послал его в лавку, на верхний базар. По дороге какой-то незнакомый человек в дубленом тулупе начал звать его с собою, суля гривенник, но Крохин отказался. На третий день он видел на улице этого человека в компании с каким-то солдатом и с Янкелем Юшкевичером, которого знал раньше.
До мальчиков этих, однако, так же как и до многих других улик, следствие добралось не сразу и опознать тех, кто их сманивал, Андреев, Константинов и Крохин уже не могли.
ГЛАВА IVИз повинной, принесенной Богдановым, видно достаточно ясно, зачем понадобилось евреям участие его в преступлении. Богданов был нанят и несомненно, за довольно крупные деньги, чтобы выбросить на Волгу трупы христианских мальчиков после убийства. Не говоря об опасности, о риске, сопряженном с таким выбрасыванием, оно — и это, я полагаю, главное — оскверняло еврея с точки зрения его верований, а потому, раз из побуждений религиозного изуверства было совершено само убийство, то, естественно, для выполнения этой последней части преступленья тот же фанатизм требовал, чтобы еврей, не оскверняя себя, нанял христианина. Правда, среди евреев был перекрест — Юрлов, но не подлежит сомненью, что в то время он только числился православным, а исповедовал иудейство. Под влиянием каких обстоятельств Юрлов крестился — в деле нет указаний. Может быть и связь с Гороховой была тому причиной. Возможно что он принял крещение против воли родичей, решив отдалиться от них, но во всяком случае, если даже крещение Юрлова вызвало сначала с их стороны остуду, раздраженье, ссору — то ко времени убийств мы застаем Юрлова в прекрасных отношениях с отцом и с другими евреями, а потому: нет сомненья, что сии последние к этому периоду времени смотрели на него опять как на иудея, а не как на христианина и, конечно, взгляд их был в существе своем правильным.
Впрочем, когда понадобилось помочь тащившему труп Богданову, то сделал это именно Юрлов, а не другие его спутники.
Благодаря его помощи с первой жертвой, Шерстобитовым, дело довели до конца и затащили мертвое тело на остров, в тальник.
Но с трупом Маслова вышло иначе. Богданов, по его словам, на крутом взвозе сорвался с саней, везших мертвое тело, вернулся в город и оставил, таким образом, евреев без своей помощи.
Им оставалось одно из двух: или выбрасывать труп самим, или, на этот раз вовсе отказаться от выбрасывания, отложить его
Здесь-то и приходится вернуться к тому несовершеннолетнему бродяге, Авксентию Локоткову, о котором упоминалось в самом начале изложения.
Там было сказано, что 5 марта (на другой день после обнаружения трупа Маслова) Локотков явился в полицию, и “учинил в убийстве сознание”, которому не придали значения как потому, что оно показалось невероятным, так и потому, что на другой же день Локотков от него отказался.
Однако, когда за следствие взялся Дурново, на сидевшего под стражей за бродяжничество Локоткова было обращено более серьезное внимание, он был снова допрошен и рассказал следующее: с шарманщиком Юрловым к цирюльником Михелем (Шлиферманом) знаком довольно давно — с 1851 г., когда был сидельцем в кабаке, куда они приходили неоднократно. Затем Локоткова, как просрочившего паспорт, выслали из Саратова в Пензенскую губернию. Оттуда он опять самовольно вернулся в Саратов перед масленицей 1853 года, несколько ночей ночевал в ночлежном дому, а затем, оставшись окончательно без денег, присмотрел еще с утра для ночевки старый, заброшенный каменный амбар, стоявший на берегу Волги, как раз около взвоза. Локотков влез туда через окно — единственное отверстие — и увидел на куче сора и щепы труп мальчика. Локотков вылез из амбара и через некоторое время, стоя невдалеке, обнаружил, что туда подошел Михель Шлиферман, однако не в солдатской одежде, а в штатской. Заметил ли Шлиферман, что его выследили или нет, но только когда Локотков, не подавая вида, пошел в сторону, “цирюльник Михель” догнал его и позвал угостить в столбовскую гостиницу, куда вскоре явился Юрлов. Из гостиницы они отправились в соседний кабак, оттуда опять в гостиницу и, когда к вечеру Локотков достаточно наугощался и опьянел, предложили ему вытащить труп из лабаза на Волгу, посулив 15 рублей. Локотков согласился, пошел вместе с Юрловым к лабазу, влез туда и, обхватив труп поперек, высунул его в окно, головой вперед, а Юрлов принял. Затем они взяли тело за голову и да ноги, снесли на Волгу и бросили под дощаник.
Когда через некоторое время труп мальчика Маслова был неожиданно найден под дощаником и в городе пошло волнение, Шлиферман с Юрловым снова зазвали Локоткова в гостиницу и, угостив, стали уговаривать, чтобы он пошел в полицию и принял все преступление на себя, ибо, хотя доказать и ничего нельзя, по городу ходят слухи, что убийство совершено жидами. Если Локотков сознается, то Юрлов и Шлиферман обещали немедленно принести ему в полицию же сто рублей. Убеждая, они говорили, что Локоткову, как беспаспортному бродяге, тюрьмы все равно не миновать, судить же его за убийство станут, как несовершеннолетнего, в совестном суде, и ничего не будет, а деньги останутся.
Локотков соблазнился, пошел на другой день в полицию и заявил, что убил Маслова, но потом “одумался” ч взял заявление обратно.
Для такого “одумыванья” были, по-видимому, соображения не только духовного, но и материального порядка.
Следствием установлено, что, после сознания Локотков был отправлен из первой полицейской части в третью. Ночью туда явился доставивший Локоткова полицейский стражник, пьяный, и настаивал, чтобы ему сдали Локоткова обратно и тогда, через несколько времени, он снова его приведет из первой части в третью уже с надлежащей бумагой. Однако, дежурный на это не согласился и Локоткова не отпустил.
Было замечено, что стражника дожидаются внизу у крыльца два солдата, про которых у него даже в части спросили, и он ответил, что это его знакомые. Квартальный надзиратель Минервин категорически, под присягой, удостоверил, что в этих солдатах он тогда же узнал известных ему Федора Юрлова и Михеля Шлифермана.
Нужно ли добавлять, что Юрлов и Шлиферман учинили и здесь полное запирательство, отвергая не только свои сношения с Локотковым, но и установленный ничем не заподозренным свидетелем приход свой в полицейскую часть.
ГЛАВА VВ мае 1853 г., когда уже расследование дела находилось в руках Дурново, к нему явился мелкий чиновник, коллежский регистратор Вырыпаев и сообщил, что ему, Вырыпаеву, и писцу Кудрявцеву их знакомый, отставной губернский секретарь Крюгер сообщал очень важные по делу сведения, но сам он объявить о них следственной власти не решается, боясь ответственности.
Узнав, о чем Крюгер рассказывал Вырыпаеву и Кудрявцеву, Дурново через этих лиц добился того, что Крюгер все это подтвердил и ему, следователю.
Таким путем удалось выяснить, что Иван Крюгер уже давно питал склонность к иудеям и иудаизму, учился еврейскому языку, интересовался иудейской верой.
Он находился в любовной связи с некоею Олимпиадою Белошапченковой, проживавшей в том же дому, где жил Эздра Зайдман — один из солдат-евреев, принимавших, согласно показанию Богданова, участие в убийстве мальчиков.
С Зайдманом Белошапченкова имела постоянные денежные дела: перезакладывала ему то, что принимала в заклад сама.
Под влиянием Зайдмана Крюгер стал все более и более сближаться с евреями, и на вопросы своих знакомых, не обратился ли он уже в иудейство, отвечал: “Да, я иудей”, сознаваясь также, что получает от евреев по 25 рублей в месяц.
Впрочем, по поводу двух последних обстоятельств, удостоверенных свидетелями, сам Крюгер заявил на следствии, что 25 рублей от евреев не получал и свидетелям этого не говорил, а называл ли себя иудеем — не помнит.
Далее, он объяснил следователю, что хотел жениться на Белошапченковой, но препятствием к этому служил бывший при ней малолетний сын. Тогда Белошапченкова сказала, что Зайдман предлагал ее сына взять к себе и отправить далеко от Саратова, а за это даже дал деньги “в задаток” — сто или полтора-ста рублей.
Крюгер вступил по сему поводу в разговор с Зайдманом, который пояснил, что намерен сына Белошапченковой сделать иудеем. Разговор у них перешел на то, можно ли во всяком возрасте перенести обрезание, и Зайдман стал приглашать Крюгера посмотреть на этот обряд и вообще побывать у них в моленной.
Крюгер согласился, был в моленной и, после службы, когда большинство уже разошлось, остался поговорить с Янкелем Юшкевичером о догматах иудейской веры, причем Юшкевичер утверждал, что для умилостивления Бога необходимо приносить даже кровавые жертвы.
Через некоторое время, когда Крюгер еще ближе сошелся с евреями, ему в половине февраля 1853 года Белошапченкова передала от имени Зайдмана записку от Шлифермана, писанную по-еврейски, где просили “придти в моленную с приглашенным”.
Крюгер отправился, нашел двери запертыми, произнес по-еврейски условленную фразу, заблаговременно сообщенную ему Зайдманом. Его впустили. В моленной было пять человек: Юшкевичер, Зайдман, Шлиферман, Фогельфельд и сторож Берман,— тот самый, о котором говорилось в начале изложения по поводу показания мальчика Канина и желтого дубленого тулупа, одетого на “сманивателе”.
Жиды толпились посередине моленной, вокруг скамейки, перед которой стоял мальчик, лет одиннадцати. Юшкевичер читал молитвы, после которых мальчика положили на скамейку и Шлиферман совершил над ним обрезание особенным ножом дугообразной формы — на конце он несколько толще.
Когда мальчик пробовал кричать, державшие за руки жиды зажимали ему рот.
После обрезания Шлиферман уже другим ножом сделал мальчику надрез на плече и дал крови стечь в сосуд, но несколько капель, вероятно, но неосторожности, лопали на пол и образовали пятно. Затем мальчика, который держался па ногах и даже мог ходить перевязали и отвели в сторожку, под присмотром Бермана. Был разговор, что оттуда его отправят на квартиру Юшкевичера.
Из сопоставления с последующими событиями для Крюгера ясно, что мальчик этот был Маслов.
Возвратись к Белошапченковой, Крюгер от сильного душевного потрясения заболел и пролежал дня четыре, а когда ему стало полегче, то решил сообщить о виденном по начальству,. Однако, Белошапченкова, узнав о таком его намерении, принялась всячески возражать ему, а потом даже грозить и не пускать с квартиры. Тем временем явился к ней сначала Зайдман, а потом Шлиферман и Фогельфельд. Узнав, в чем дело. они пришли в ярость и принялись бить Крюгера. Лишь с большим трудом он вырвался и, окровавленный, избитый, бросился бежать к себе домой, где заболел настолько серьезно, что две недели пролежал без памяти, а когда стал выздоравливать, то решил, что заявлять о случившемся саратовскому начальству нет никакого смысла, так как ходили повсеместные слухи, будто оно взяло с жидов хорошие деньги.
Кухарка Крюгера подтвердила, что на Масленой (конец февраля 1853 г.) он вернулся домой сильно побитый и прохворал почти до Пасхи.
В том доме, где была раньше еврейская моленная, следователь Дурново застал уже частных жильцов-христиан. Он произвел осмотр пола и установил, что в том месте, где, по указанию Крюгера, образовалось пятно от пролившейся крови, доски оказались в нескольких местах довольно глубоко прожженными. Новые жильцы удостоверили, что застали пол в таком виде уже при самом въезде своем в дом после евреев.
Оговоренные Крюгером жиды отрицали даже какое-либо свое с ним знакомство, а Белошапченкова признала лишь, что Крюгер бывал у нее довольно часто.
Это полное запирательство представляется не лишним сопоставить с фактом, о котором упомянуто в предшествующем изложении:
Антон Богданов описывая в своем показании, как вывозили со двора Юшкевичера труп Маслова, рассказал, что водивший его в тот день предварительно по кабакам Зайдман зашел, между прочим, в дом по Сергиевской улице, а когда вышел, то его провожала какая-то женщина, говорившая скороговоркой и прощаясь, сказала: “Бог с вам”.
Эту женщину Богданов признал в предъявленной ему Белошапченковой. Она, как оказалось, действительно говорила скороговоркой.
ГЛАВА VIВся обстановка, в коей совершались саратовские убийства: большое количество участников; значительное число мальчиков, пропадавших в тех же местах за прежние годы, до того, как случайно и неожиданно были найдены трупы Шерстобитова и Маслова; большие денежные средства, которыми, видимо, евреи не стеснялись; вся постановка дела “на широкую ногу”, породившая “повсеместные слухи, что саратовское начальство взяло деньги от жидов”; изумительный образ действий “градской” саратовской полиции, послуживший предметом особого расследования; чрезвычайная дерзость и наглость, до которых дошли убийцы — все это, весь, так сказать, “масштаб” — ясно свидетельствовал, что преступления, совершаемые в Саратове, нужны были не для одних только саратовских жидов — немногочисленных и небогатых, что корни, нити злодеяний раскинулись шире и глубже.
Однако, разумеется, эти общие, так сказать “априорные” соображения, надлежит, с точки зрения судебных доказательств признать неустановленными, а потому перейдем все к тем же отдельным уликам, разбором которых мы занимались до сих пор, и посмотрим, какой материал дают они для выяснения того, что творилось вне Саратова, но в связи с Саратовом.
На очень большие денежные суммы, полученные Янкелем Юшкевичером из какого-то неизвестного источника — есть в деле прямые указания.
Далее, собранные сведения о какой-то странной переписке и таинственных посылках, предназначавшихся на Волынь, “любовичскому ходоку Таупкину, для передачи любовичскому раввину”.
В показании своем о тех лицах, которые были на квартире Юшкевичера перед обрезанием Шерстобитова, Богданов указал, между прочим, на еврея в халате и высокой грузинской шапке.
Следствием было установлено, что в это время в Саратов, действительно, приезжали на короткое время дна еврея с Кавказа и виделись с Юшкевичером.
У евреев этих — Ильягу-Назар-оглы и Бениля-Евда-оглы — были произведены на Кавказе обыски, причем, в числе религиозных книг, оказавшихся у Бениля, обратило внимание редкое в России и не имевшее цензурного пропуска, изданное в Антверпене иудейское сочинение: “Чин устного предания о пасхе”, где, в числе гравюр, изображен фараон, ищущий кровью еврейских детей получить исцеление от проказы
.Таково, впрочем, еврейское объяснение гравюры. А изображает она голого человека в венце, простирающего руку на кровь, текущую из закалываемого перед ним младенца.
Гораздо более определенные сведения о внесаратовских сношениях Юшкевичера удалось почерпнуть из показании некоей Марии Ивановны, по отцу Безверховой, по мужу Слюняевой.
Она, несомненно, принадлежала к числу таких же людей “со дна”, как и Богданов, и Локотков — такая же бездомная бродяга, как и последний.
Показание ее настолько характерно, что надлежит привести его подробно. Начинается оно с событий, происшедших года за три до убийства Шерстобитова и Маслова.
Выданная в очень молодом возрасте замуж и весьма быстро убежавшая от мужа, крестьянина Пензенской губернии, Слюняева начала “шататься по разным селеньям” и, таким образом, добралась до Тамбова. В этом городе, выйдя на базар, она встретила какого-то плотника, который искал нанять женщину в стряпухи. Сойдясь с ним в цене, она в тот же день отправилась в местечко Ляды, на винокуренный завод Чичерина, в артель работавших на заводе плотников.
Отсюда сманил ее к себе в услужение живший при заводе князя Гагарина еврей-винокур, называвшийся Александр Григорьевич (а по следствию Хацкель Ариев) Коников.
У Коникова и жены его “Арины” Моисеевны Слюняева была в услужении с перерывами три года.
Во время еврейской пасхи съезжалось к “Александру Григорьевичу” много евреев из разных мест. Собирались жиды, служившие на заводе, которых было до 15 человек.
В их числе Мария Слюняева припоминает двух старых евреев, как их зовут не знает, но слышала, что одного прозывали “Реби”, то есть учитель, а другого — “Пчельник”.
Вскоре после ее поступления, на самую еврейскую пасху, Александр Григорьевич и старый раввин, при других еще евреях, застав Марью в их моленной, стали требовать, дабы она поклялась исполнить все, что они от нее потребуют, и никому не говорить о том, что она у них увидит.
Жиды говорили такими словами:
“не возьмешься ли сделать, что мы прикажем? Поедешь ли с нами и не будешь ли болтать? Если ты нам вверишься, мы тебя так устроим, что век будешь счастлива и обеспечена.”
Она, Марья, клялась исполнить все. Но жиды, не веря христианской божбе, требовали, чтобы она позволила выпустить себе кровь из пальца. Согласясь, она дала левую руку. Ей сделали на безымянном пальце почти нечувствительный надрез и выпустили немного крови. Александр Григорьевич и старый раввин уверяли ее, что если она не сдержит обещания, то сейчас умрет.
Скоро после еврейской пасхи жиды отправили ее с работником Моисеем Леонтьевым (по следствию Мовша Шая) в г. Кирсанов, где Леонтьев взял еще другого работника, жида “Бориса”, за кучера и втроем они поехали в Саратов на зеленой, крашеной бричке, принадлежавшей Пчельнику.
Приехав в Саратов, остановились поблизости Волги. Моисей Леонтьев и Борис тотчас же куда-то ушли, а часа через два вернулись и принесли стеганный на вате баул, вроде чемодана, завязанный шнурком, припечатанный, и какую-то записку.
Что в этом бауле находилось, она тогда не знала.
Возвратясь в Ляды, отдали баул и записку старому раввину. Вскоре он уехал и больше Марья его не видала. Одновременно уехали из Ляд и старый “Пчельник” и Моисей Леонтьев.
На следующий год (1852 г.), около Крещения, Марья опять поехала из Тамбова в Саратов с молодым раввином. Остановились в Саратове на постоялом дворе. Раввин куда-то ушел, но скоро возвратился с другим жидом, молодым, курчавым, которого раввин назвал ей сыном красильщика, Александром (впоследствии Слюняева признала в этом “Александре” сына Янкеля Юшкевичера, Файвиша, о котором было упомянуто в начале изложения). Па сей раз она вообще пользовалась уже большим доверием, чем год назад: ей отдали баул и записку, которые она и доставила в Ляды.
На следующий год, к весне, Александр Григорьевич сказал Марье, что надо опять ехать в Саратов, и, наняв кучера, уже не жида, а русского, велел разыскать в Саратове солдата Шварца, который готовит кушанье саратовским евреям во время их праздников — и отдать ему записку.
Вместе с запискою “Александр Григорьевич” дал Марье (доверие к ней, видимо, все увеличивалось) особую печать в футляре, чтобы при розыскании Шварца и при расспросах о нем могущих ей встретиться в Саратове евреев они имели бы возможность узнать, для чего Марья отыскивает этого солдата.
Печать была трехугольная; по углам — три шпенька, в середине — еврейская надпись.
По приезде Марья нашла Шварца в гарнизонном батальоне. Он взял привезенный ею баул и ушел, но вскоре вернулся с женщиною, возвратившею Марье баул, с которым Марья в тот же день уехала в Ляды. Впоследствии в этой женщине она признала прислугу Янкеля Юшкевичера.
В первые два раза Марья полагала, что в бауле краска, как о том ей говорили жиды, но в этот раз она открыла баул, откупорила находившуюся там бутылку и убедилась, что содержавшаяся там жидкость — не краска, потому что на руке скоро сохла. Тогда Марья вновь закупорила бутылку и припечатала имевшуюся у нее жидовской печатью.
Приехав в Ляды, баул, печать и записку она отдала молодому раввину.
Показание это Слюняева дала в саратовской тюрьме, куда ее препроводили, задержав “за безписьменность”. Находясь в заключении, она начала обнаруживать признаки сильного душевного волнения, много плакала. На расспросы выразила желание поговорить со священником и, уже после беседы с ним, дала показания следователю.
На безымянном пальце у нее обнаружен рубец от надреза, сделанного довольно острым орудием.
Следователь, взяв с собой Слюняеву, немедленно отправился для проверки ее показания в Ляды.
При обыске на квартире Хацкеля Арнева (Александра Григорьевича) Коникова вместе с разными предметами, необходимыми для иудейского богослужения, под шкафом или кивотом, в котором хранилась сейферторе (библия на пергаменте), в особом выдвижном ящике оказался лоскут холста, пропитанный, по-видимому, кровью и завернутый в три полулиста печатной по-еврейски бумаги. Тут же был найден другой лоскут в вершок шириною и пять вершков длиною, красного цвета и в отдельном конверте небольшой кривой нож, с пуговкою на конце.
Слюняева называла безошибочно каждого из членов семьи Коникова и выказала совершенное знание местности на заводе.
Хацкель Коников объяснил, что Марьи Слюняевой не знает вовсе, и никогда она у него не проживала; не знает, кому принадлежат найденные у него на квартире лоскуты, пропитанные, по-видимому, кровью. Кривой нож есть фруктовый.
В Саратове он, Хацкель Коников, был в октябре или ноябре 1852 года, чтобы закупить лесной материал (брусья) для лядинского завода. Купил их у саратовского купца Артамонова. При сем видели с Никелем Юшкевичером, был у него на квартире и в еврейской моленной.
Работник Коникова, Мовша Шая (Моисей Леонтьев) заявил первоначально, что видал Марью в Лядах, в доме Коникова, но потом, на очной с ней ставке, лишь только она начала рассказывать о поездке в Саратов, но еще не дошла до объяснений, зачем туда ездила, Мовша Шая, как удостоверяет следственный протокол, резко изменился в лице и решительно отказался от того, что он знает Марью и где либо ее видел, утверждая, что показал сначала другое с испуга. Тряпка, найденная в ящике под кивотом, как Мовша полагает, запачкана детьми во время резанья гусей, дня за три до обыска.
Далее, Хацкель Коников заявил, что никакого работника Бориса не знает и такого у него не было. Однако, стараниями следственной власти был разыскан и работник Борис, который оказался Оршанским мещанином Беркою Бокштейном. Он, в противоречие с показанием Коникова, признал, что проживал на лядинском винокуренном заводе, но знакомство свое с Марьею Слюняевой и он отрицал вовсе.
По рассмотрении в медицинском совете холщовых лоскутов; взятых у Коникова, найдено, что они пропитаны кровью млекопитающего (человека или животного — различать в то время не умели).
По переводе с еврейского в азиатском департаменте трех печатных листков, в которые была завернута одна из этих тряпок, оказалось, что листки содержат: 1) отрывок из мистического еврейского сочинения под заглавием: “Летопись блаженного Моисея, основателя нашей веры”, с повествованием об избиении Господом первенцев у Египтян на пользу еврейского народа: 2) отрывок из книги Левит (гл. 6, ст. 7,), где заключаются законы и обряды, данные Богом Моисею о принесении жертв и 3) отрывок из пророка Исайи, осуждающий язычников и прославляющий Израиля.
Ножик — по объяснению Коникова, “фруктовый” — врачебная управа признала хирургическим инструментом, который называется “Поттовым бистуреем” и употребляется для свищевых ходов, для вырезания миндалевидных желез и при операции грыжесечения.
Купец Артамонов удостоверил, что Коникова не знает и никаких брусьев ему не продавал.
Таким образом, с показаньем Слюняевой повторилось то же, что я своевременно отмечал в отношении и Богданова, и Локоткова, и Крюгера — люди эти сами но себе доверия не заслуживали, но с одной стороны показанья их, представляющие длинный и сложный рассказ, начинали при проверке подтверждаться такими чисто объективными данными оспаривать кои невозможно.
С другой стороны, чрезвычайно знаменательно отношение к этим показаниям иудеев: они с необычайным упорством и озлоблением, вопреки очевидности, отрицали все от начала до конца: я, мол, не только ничего преступного не делал, но и с человеком, меня оговаривающим, знаком не был, да и не видал его никогда. Именно то “арестантское” поведение, которое охарактеризовано меткой по обыкновению русской пословицей: “я — не я, и лошадь не моя”.
“И как попал холст, пропитанный кровью, в ящик под моим кивотом — не знаю; и Марьи Слюняевой — не знаю, никогда не видал; и работника Бориса — тоже не знаю, первый раз слышу”. Это говорит уже не какой-нибудь русский бродяга, а солидный, зажиточный еврей, пользующийся большим уважением среди единоверцев, успевший отъесться на винокуренном заводе русского барина.
Своему хозяину вторит застигнутый врасплох и не успевший с ним столковаться работник. Только заслышав, что речь идет о поездке в Саратов, он меняется в лице и твердит: не знаю! Про Саратов? Ничего не знаю! Пропитанные кровью лоскуты? Не знаю!
“А ты только что сказал, что знаешь?”
“Это я с испугу”!
Только перекрест из евреев, но и тот всего лишь один раз и всего на один момент, под влиянием ужасного, неожиданного известия не выдержал и сказал своей любовнице-христианке: “наш грех. Должно быть, мы все погибли!”
Столь же типичным для еврейской среды является стремление переложить на христиан всю ту часть опасного и неприятного дела, какую только возможно.
Разве эта черта не проходит красной нитью и по сие время через целый ряд еврейских уголовных дел не ритуального, а уже совершенно иного характера — хотя бы, например, революционного?
В том лишь разница, что там действуют убеждением, экзальтацией, гипнозом, а здесь просто наймом, грубым подкупом — поэтому и среда совершителей другая, поэтому вместо “сознательных юношей” и “передовых девиц” саратовское дело, в части, касающейся христианского элемента, дает такое обилие людей “неодобрительного поведения” — пьяниц и бродяг.
На роли наемных участников преступления это был самый подходящий элемент и одно из драгоценных его качеств было именно то, что в глазах и суда, и властей, и “общества” показания этих “бывших” людей, как таковые, не могли внушать ни малейшего доверия.
А кто же мог предполагать, что и трупы, выброшенные на Волгу, найдутся перед самым половодьем, и служащие владельца С.-Петербургской гостиницы Гильгенберга нарушат обет молчания, и даже “градская” саратовская полиция будет устранена от “обнаружения” дела?
А если бы не случилось рокового сцепления всех этих совершенно непредвиденных обстоятельств, то и Богданов, и Локотков, и Слюняева, а даже Крюгер могли бы разоблачать сколько угодно — их откровения серьезной опасности не представили бы.
В Саратове, повторяю, было дело, “широко поставленное”, своего рода “оптовое производство” и туда, на запах свежей христианской крови, потянулись всякие “ходоки “Таупкины” с Волыни, столь интересующийся “чином устного предания о пасхе” Бениль-Евда-оглы с Кавказа и, наконец, из Тамбова — сам “Александр Григорьевич”, у которого, в свою очередь, на еврейскую пасху бывал съезд всех окрестных иудеев.
ГЛАВА VIIСогласно особому Высочайшему повелению, следствие по саратовскому делу должно было поступить в Правительствующий Сенат, а оттуда, независимо от вопроса о каких-либо жалобах или разномыслиях, в Государственный Совет для окончательного разрешения.
Приговор, постановленный Государственным Советом огромным большинством 22 голосов против трех утвердил то решение, которое уже в общем собрании Сената было принято большинством.
Изменения последовали сравнительно маловажные и не касались подсудимых-евреев.
Юшкевичер, Шлиферман и Юрлов были сосланы в каторжные работы на рудниках, первые два на двадцать лет каждый, а Юрлов на 18, “за убийство в г. Саратове двух христианских мальчиков через истязания и мучения”.
Богданов и Локотков признаны укрывателями этого преступления. По закону — находит Государственный Совет — они должны подлежать строгому наказанию: ссылке в каторжные работы, но, принимая во внимание их чистосердечное раскаяние и сознание, Государственный Совет повергает на Высочайшее благовоззрение, чтобы Богданова отдать на два года в исправительные арестантские отделения, а Локоткова на такой же срок в рабочий дом.
Относительно Ивана Крюгера, виновного в недонесении, просит но тем же основаниям о замене полагающегося ему по закону наказания высылкой на жительство в одну из отдаленных губерний, с подверженном строгому полицейскому надзору.
Ицку Берлинскаго, Эздру Зайдмана и Янкеля Бермана оставить в подозрении по участию в убийстве.
Приговор этот, или, правильнее, “мнение Государственного Совета”, был утвержден Государем.
Следует помнить, что в то время, в дореформенном процессе, приговоры постановлялись на основании так называемых формальных доказательств”, которые требовали “прямых” улик — собственного сознания, поличного, показаний свидетелей-очевидцев преступления (свидетелей, а не сообвиняемых). Если такие “формальные” и “прямые” доказательства отсутствовали, то постановление обвинительного приговора чрезвычайно затруднялось, ибо одного внутреннего убеждения в виновности (теперешний суд присяжных) было мало — надлежало подкрепить его рядом формальных доводов. Одновременно в законе указывался и весьма благовидный выход — “оставление в подозрении”.
Таким образом, недостатки дореформенного процесса — которые несомненны и на которые так любят указывать — были в данном случае к выгоде осужденных иудеев, а не ко вреду, ибо, при отсутствии их сознания, поличного и свидетелей-очевидцев преступления, для Юшкевичера, Шлифермана и Юрлова не была потеряна возможность по формальным, казуистическим основаниям избежать обвинительного приговора и, подобно Берлинскому, Зайдману, Берману, “остаться в подозрении”, несмотря на неотразимые косвенные улики и на полное внутреннее убеждение судей
.Существование ритуальных убийств, совершаемых евреями, признано Церковью, и Православною, и римско-католическою, ибо Церковь, канонизируя некоторых святых, удостоверила, что они замучены иудеями. Признано народными массами: спросите об этом в черте оседлости любого простолюдина. Признано, по саратовскому делу, и русским судом, и высшими государственными установлениями Империи. Признано Монархом.
Но саратовское дело поучительно и во многих других отношениях.
Какая выпуклая картина того, чем занимались и как вели себя жиды в армии — еще в те, строгие, времена!
Какие типичные примеры иудейской солидарности, непроницаемости и жидовского “почкования”!..
Какие неопровержимые доказательства разлагающего влияния, немедленно оказываемого иудеями на ту
христианскую среду, с которой они приходят в соприкосновение, какого бы общественного положения эта среда ни была!Скажем шире — сколько ценных, поучительных страниц дает саратовское дело для изучения еврейства вообще, — оттого это дело так тщательно до сих пор замалчивалось.
Зверское умерщвление в Киеве мальчика Андрея Ющинского, замученного, обескровленного, снова выдвинуло и обострило так называемый “вопрос о ритуальных убийствах, вопрос об употреблении иудеями христианской крови для религиозных целей”.
Прежде, всего, в какой мере это “вопрос”?
Па протяжении длинного ряда веков, с изумительною последовательностью, в самых разнообразных странах возникали обвинения, подобные настоящему, и всегда в их справедливости и достоверности все окружающее население — и христианское, и мусульманское — было вполне убеждено.
“Умучен от жидов” — гласит надгробок над мощами святого младенца Гавриила в Слуцке. Для стекающихся ежегодно толпами на поклонение мощам богомольней не только православных, но и католиков здесь нет вопроса
С не меньшею последовательностью еврейство, как таковое, совершенно отрицало, с пеною у рта, употребленье крови для религиозных целей. И теперь, по поводу дела Ющинского, еврейская печать полна истерическими выкликаньями, что все ритуальные убийства — сказка, что все сведения об этих убийствах — или бред сумасшедших, или злостные измышления заведомых клеветников.
Отрицали и будут отрицать, ибо, само собою понятно, каково бы ни было истинное положенье вещей, каковы бы ни были доказательства, признаваться — невозможно.
Жидам вторят все
“жидовствующие”, все те иудейские подголоски, которые пли попали в материальную зависимость, в кабалу к иудеям, или находятся под гипнозом жидовской печати.И в этой среде, по самому ее составу, ни о каком “вопросе” не может быть речи
.Остаются те, кто мало знаком с еврейством, не интересовался им, не жил в местностях, переполненных жидами, вроде нашей “черты оседлости”, не входил с ними в соприкосновенье.
Однако, помимо желанья и возможности кого-либо убеждать, каждый, кто предъявляет обвинение, тем самым обязуется представить доказательства.
В данном случае они чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Исчерпать их трудно, да и не входит в мою задачу: вдаваться в область исторического или догматического исследования я не собираюсь. С меня достаточно заняться разбором, чисто документальным, фактическим только одного судебного дела, изученного зато мною в подлиннике, и, на мой взгляд, наиболее яркого из тех, дел с совершенных иудеями ритуальных убийствах, которые, в довольно большом количестве, были на рассмотрении русских уголовных судов.
Правда, когда подходишь к явлению, раскинувшемуся на протяжении многих стран и многих веков, то одно судебное дело — лишь “черточка, самая махочкая черточка”.